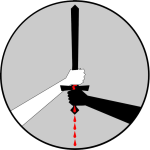«Мне приснилось, что наш храм сгорел. Наяву так и оказалось»

Пономарь храма ПЦУ в Мариуполе — о жизни в осажденном, а затем оккупированном городе, который был почти полностью разрушен российскими войсками.
На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину Ярославу Г. было 27 лет. Он работал рерайтером новостной ленты на известном городском сайте Мариуполя. А ещё служил пономарём в храме во имя святого великомученика Пантелеймона Православной Церкви Украины (ПЦУ).
Мариуполь — один из наиболее пострадавших в ходе войны украинских городов. С первых дней полномасштабного вторжения он был взят в блокаду. Бои за город продолжались 82 дня и завершились 16 мая, когда Мариуполь уже полностью контролировался российскими войсками.
Из-за оккупации точное количество жертв в Мариуполе подсчитать пока нельзя. Городская мэрия говорила о 22 тысячах погибших горожан.
Ярослав Г. оставался в городе до 12 мая 2022 года. Какими были 2,5 месяца в осажденном и оккупированном городе, он рассказал проекту «Христиане против войны».
«Приход был для меня самым главным в жизни»
На момент начала полномасштабной войны я жил с мамой в Центральном районе Мариуполя, в западной его части, как ехать к ТРЦ «Порт Сити». Был прихожанином и пономарем храма святого великомученика и целителя Пантелеймона.
К вере пришел на втором курсе университета: сначала симпатизировал лютеранскому вероисповеданию, несколько раз ездил на богослужения в другие города, дважды посещал римо-католический приход, пока Бог не привел меня в Святую, Соборную и Апостольскую Православную Церковь.
В 2018 году наша община, до того принадлежавшая к Киевскому Патриархату, в полном составе присоединилась к Православной Церкви Украины.
Приход был для меня самым главным в жизни. Даже работа была для меня не так важна, как служение Церкви. Каждый свой выходной я старался посвятить храму: не только богослужению, но и быту — что-то убрать, что-то обустроить.
Каждое воскресенье у нас было на богослужении человек 50, по праздникам — 80. То есть наш приход считался многолюдным. А еще мы были единственным в Мариуполе храмом ПЦУ, который был построен именно как храм (а не переоборудован из какого-то другого старого здания).
«… и началось выживание»
Последнюю литургию перед войной я пропустил — не помню, то ли заболел, то ли работал (иногда мои рабочие смены выпадали на выходные дни). Пропустил, а теперь жалею.
Предчувствие войны какое-то было. Мы даже с нашим настоятелем незадолго до 24 февраля обсуждали, что будем делать в случае войны и оккупации, потому что, понятно, для ПЦУ риск был большой. А у меня нет родственников нигде в Украине, и я размышлял: а куда же я поеду в случае чего — без родственников, без денег…
Но, если честно, мы не думали, что город будет в блокаде. Мы предполагали, что боевые действия будут, максимум, на восточной окраине города, так что у нас будет время выехать. Тем более, незадолго до 24 февраля к нам в город с визитом приезжал Президент, а еще собственник градообразующих предприятий, и эти визиты вселяли какую-то надежду, спокойствие, оптимизм.
Вечером накануне войны я разговаривал с кузиной, и она считала, что начнется что-то плохое, а я был убежден, что ничего плохого не случится. Я не верил в возможность полномасштабной войны, не делал никаких запасов. Но когда тем вечером я лег спать, то долго не мог заснуть, была тревога, какое-то такое состояние внутреннего беспокойства. Хотя у нас, я считал, город был хорошо вооружен и защищен: у нас размещались и «Азов», и морская пехота, и другие сильные подразделения.
А утром мне позвонил папа, и я, прежде чем он что-то сказал, понял, что всё началось. Положил трубку и пошел на работу. Работал я в тот день вдохновенно, потому что наконец по-настоящему ощутил важность своей профессии. Я чувствовал, что реально нужен людям, был готов даже выезжать «в поле», чтобы отыскивать какую-то информацию.
В тот день меня ненадолго отпустили, чтобы я снял деньги с банкомата (но это было уже невозможно) — и мы перешли практически на круглосуточную работу. А примерно 1 марта не стало света. В предыдущие дни его отключали по нескольку часов в день, а теперь он исчез совсем. Связь тоже исчезла. Я потерял связь со своей работой, не знал, что делать дальше, и началось выживание.
«На молитву буквально не оставалось времени»
Люди начали самовольно открывать магазины и брать оттуда еду. А я не знал, что делать — мне хотелось посоветоваться с духовником, спросить у него, можно ли брать эту еду. Но поскольку связи не было, я просто сам решил, что ничего брать не буду.
Я вспомнил слова из Священного Писания о том, что Господь не оставит. Так и маме сказал: «Не волнуйся, еда у нас будет». И действительно, люди начали приносить нам еду, например, в благодарность за помощь: я мог принести кому-то воду, помочь заготовить дрова. (В начале марта 2022 года в осажденном Мариуполе исчезла не только мобильная связь, но и все остальные коммуникации: свет, вода, газ, отопление. Магазины закрылись, продукты быстро кончились. Многие люди были вынуждены фактически мародерствовать, чтобы пропитать себя и свои семьи. Весь период боев за город мариупольцы также были вынуждены готовить еду на улице, на кострах. — Прим. Ред.)
Однажды мы с мамой попробовали пойти в магазин, но атмосфера там была… не очень. К такому не были готовы, кажется, даже полицейские. Мы тогда увидели с мамой яблоки в луже — большие, польские — и забрали, а потом обменяли на что-то. Такой вот получился бартер. Тогда мы еще, помню, на улице нашли какой-то чай. Я считал, что брать из магазина продукты — нельзя, но можно подбирать, если их кто-то выбросил.
Также я очень переживал, что начался Великий пост, а придерживаться его было невозможно: еду выбирать не приходилось, я ел то, что было еще в запасе и чем угощали. К тому же, чтобы готовить на улице, требовались сила и энергия.
Духовнику я своему позвонить не мог и был этим в каком-то смысле парализован, потому что полностью все свое молитвенное правило я вычитывать также не мог — на молитву буквально не оставалось времени. Ты просыпаешься, разводишь костер, на котором надо приготовить чай или кофе, потом идешь добывать воду, потом идешь за дровами, пока туда-сюда, дня уже и нет. Утреннее правило я читать не успевал, читал вечернее: вслух, мы молились вместе с мамой. Иногда даже сидя или лежа, когда как получалось.
И самое страшное вот что: тут Великий пост, а меня распирают ненависть и злость, с которыми я не могу справиться. Я так готовился к посту, настраивался на этот молитвенный период, и тут началась война! Злость от всего происходящего просто не утихала. А посоветоваться было не с кем: хотя мой духовник и жил неподалеку, найти я его не смог (потом оказалось, что он ушел к родителям матушки).
Господь мне об этом чудом дал узнать, кстати — но уже гораздо позже. Однажды мы с мамой пошли набирать воду в район комплекса «Аляска», там был родник. И я услышал, как женщины, которые там стояли, обсуждают наш приход. Причем они озвучивают такие детали, которые могли знать только близкие нашему храму люди. Оказалось, среди этих женщин была мама нашей матушки. Мы наладили связь. Сам наш батюшка выехал с семьей, а я продолжал ходить к этим людям в гости, такое вот было утешение.
Такое чудо было не единственным. В начале мая я искал хоть кого-то из священников ПЦУ и пришел убраться в часовне во имя Архистратига Божиего Михаила, которая находится возле главного управления Нацполиции. Само управление было уже захвачено, а часовня стояла пустая, там повсюду лежало разбитое стекло, и я хотел его убрать. А после мы сидели еще с одним прихожанином на улице, неподалеку — и видим, едет батюшка на велосипеде. Он остановился, потому что увидел, что возле храма сидят люди. Оказалось, он пытается возобновить богослужения в храме во имя святого Петра Могилы — это нижний храм собора, который строился в Приморском районе города. Но это я немного забегаю наперёд в своём рассказе.
«Слова псалмопевца о врагах, окруживших город, прозвучали по-новому»
До войны я старался начинать утро с просфоры и святой воды. Потом читал утреннее правило и приступал к работе. После работы читал Писание или духовную литературу. Молился вечерним правилом, смотрел какой-то сериал, перед сном прочитывал еще несколько молитв. Этот весь график и ритм у меня расстроились, и по сей день я не могу в них вернуться, если честно. В войну ты не можешь себе позволить несколько часов молиться, и тебе не до распорядка.
Зато я заново открыл для себя Псалтирь. Слова этой книги заново откликнулись в моем сердце, иначе. Та лексика, те словосочетания, тот искренний диалог с Богом, который вел псалмопевец, прозвучали в тех обстоятельствах совсем по-новому. Например, слова о врагах, которые окружили город и ходят вокруг, жаждая крови. В Мариуполе в те дни повторялись события древних времен царя Давида.
Псалтирь я читал как средство в борьбе со злобой, кстати, даже выписывал отдельные цитаты в специальный блокнот (правда, по-церковнославянски, чтобы, если вдруг меня где задержат, ко мне не было претензий).
Но дисциплину в молитве я потерял полностью. А в вере что главное? Дисциплина, как и в спорте. И как только ты немного сошел с дистанции, так сразу же потерял какую-то внутреннюю собранность. По сей день я не могу полностью сосредоточиться на богослужении.
«Я не стал объяснять соседям, что эти дети теперь в лучшем мире. Подумал, что лучше промолчу»
Так я понял, что очень легко быть христианином, когда у тебя спокойная размеренная жизнь, ты знаешь, что будет завтра, спокойно ходишь в храм, спокойно читаешь молитвы. А когда появляются вызовы, когда переворачивается вся жизнь, христианином быть тяжелее.
Когда в соседнем доме лежит беременная женщина, которая погибла под бетонными плитами, а ее муж-врач, который добровольно поехал спасать людей, тоже погиб, — я не знал, что отвечать своим соседям. Не знал, как свидетельствовать о вере тем людям, которые видели, как умерла эта женщина и как долго её не могли вытащить из-под плит, потому что очень тяжелый бетон; даже оккупанты потом сказали, что здесь нужен подъемный кран.
Сейчас стала популярна песня американской певицы Сюзанны Веги о том, что «Бог выехал из Мариуполя на последнем поезде». Я не знаю, как объяснить людям эту песню, потому что считаю, что Бог оставался в Мариуполе все время, и по сей день Он там, Он вообще везде. Но говорить это людям я не берусь.
Как-то мы с мамой шли по городу и увидели дом в частном секторе, полностью разбитый, и рядом на камне были написаны имена, с датами рождения и смерти. По датами было понятно, что это дети. И я не стал объяснять соседям, что эти дети теперь в лучшем мире. Я подумал, что лучше просто промолчу.
Люди знали, что я пономарь, что я посещаю храм, но я не мог найти для них утешения — потому что люди теряют веру, когда видят, как гибнут их близкие, и пояснить причину этой смерти я им тоже не мог. А некоторые мои соседи наоборот в те дни открыли для себя Бога. Одна соседка у меня попросила молитву, я ей переписал от руки. Потом другой сосед попросил. А 9 мая, когда он пришел в гости, я читал молитву за упокой всех воинов, погибших во Вторую Мировую войну, за всех наших предков.
Я думал, что большинство горожан у нас неверующие, но оказалось, что это не так. Погибших не могли хоронить на кладбище и потому хоронили во дворах, на стадионах, в парках. И вот, на стадионе неподалеку от нас людей хоронили по направлению на восток, на этих могилах устанавливали православные кресты. Да, иногда делали перекладину не в ту сторону, но все понимали, что хоронить людей нужно по христианскому обряду.
«Мы потеряли всё. И не только мы»
В апреле, когда большинство районов было уже захвачено и стало возможным передвигаться по городу (не рискуя погибнуть в городских боях — Прим. Ред.), мне вдруг приснилось, что наш храм сгорел и что я иду на улицу Успенскую и вижу, что от храма ничего не осталось. И когда я пришел туда уже не во сне, а наяву, то так и оказалось. Да, наш храм был совсем новым, он не был памятником архитектуры, но у нас, например, была икона святого чудотворца Николая XIX века, икона святого Георгия Победоносца того же периода примерно… Сгорело всё.
Невероятно жаль. Этот храм дался такими усилиями! Батюшка даже голодовку устраивал перед горсоветом, чтобы ему выдали землю. Землю нам не выдавали под постройку вплоть до 2014 года, а потом наконец выделили — и теперь мы потеряли все. И не только мы. Храм наш расположен как раз по дороге к заводу «Азовсталь», на холме, и этот район был полностью уничтожен, вся частная застройка.
У нас была очень дружная многонациональная община: к нам ходили и армяне, и россияне, и ромы. Самой большой утратой для меня стала гибель пани Раисы, мамы нашего настоятеля, которая помогала по храму. Она была очень доброй и открытой женщиной, приятной собеседницей, кстати, русской по национальности. Пани Раиса погибла от осколков в своем дворе. Другая наша прихожанка, военный медик-стоматолог, попала в плен. Я очень за нее волновался, но слава Богу, ее уже освободили.
Хотел я пойти проверить и еще один наш храм — святой равноапостольной княгини Ольги, возле меткомбината имени Ильича. Но меня отговорили: сказали, что в том районе работают снайперы, там уже лежали мертвые люди, и я не пошел тогда, остался. Потом там побывал один наш священник, отец Александр. Он сказал, что в тот храм было прямое попадание.
«Оккупанты пришли в храм в касках и с автоматами»
Для меня было очень тяжело то, что я долгое время не мог пообщаться ни с кем из наших. А пообщаться с кем-то своим очень хотелось.
Впервые за все время осады города я смог попасть на службу примерно на Благовещение, в храм УПЦ, где возобновились богослужения (на тот момент район уже был захвачен российскими войсками, и бои в нем прекратились. — Прим. Ред.). Это был Свято-Никольский собор. Однажды я просто услышал, как там звонят колокола: во-первых, собор находится от меня не очень далеко, а во-вторых, город замер, заводы прекратили работу, и колокола стали слышны. Так я понял, что храм снова открыт.
Я туда пришел, повстречал какого-то мужчину, который помогал по храму, спросил, будет ли богослужение. Он сказал, что да, и уже на следующее утро я пошел на службу. Душа очень просила, и в то же время я понимал, что наших, скорее всего, в городе уже не осталось, и поэтому пошел в храм УПЦ.
Уже позже я узнал, что совсем неподалеку от меня, на 23-м микрорайоне, жил отец Александр со своей матушкой, который не выехал — остался, когда увидел, как хоронят людей на футбольном поле. Он мог эвакуироваться из города, потому что у него была машина. Но не стал, потому что увидел, как стихийно во дворах хоронят христиан, и решил, что останется, чтобы их отпевать. Они в доме, где остановились, отслужили пасхальную службу, прямо в подвале. И я очень жалел, что не знал об этом заранее и не смог попасть к ним.
Пасху в Свято-Никольськом соборе встречали утром: ночью был комендантский час, и служить не разрешили. Служба тогда началась примерно в 7 утра. Я встретил в храме людей с нашего района: город опустел, и если раньше я никогда не встречал одного и того же человека в городе дважды, то теперь видел одних и тех же людей то там, то здесь, стал узнавать их.
Папа подарил мне одну пасочку, вторую мы с мамой купили, маленькую-маленькую, потому что пасочки стоили бешеных денег.
В этот храм ходили оккупанты, и я удивился, что никто не сделал им замечания: они же там стояли в касках, то есть с покрытой головой, да еще и с оружием. Приходили и российские «военкоры», какая-то бабушка учила их, как осенять себя крестным знамением.
Так я посетил несколько служб в этом храме, а потом подумал, что все-таки нужно сходить в Приморский район, посмотреть, что там с нашим храмом во имя Петра Могилы. А к тому моменту уже потеплело, быт обеспечивать стало легче, и я стал отпрашиваться у мамы ходить на службы туда.
У мамы приходилось отпрашиваться, потому что с 10 марта она боялась оставаться одна. У нас в тот день выбило стекла на балконе, и я пошел заколачивать окна, а в этот момент что-то взорвалось, и нас обоих с мамой отбросило взрывной волной — и чудо Божие, что мы выжили, потому что летели такие осколки! А нас ранило совсем чуть-чуть. Тогда в нашем доме выбило все окна и еще в двух 12-этажках напротив. В соседнем подъезде погиб мужчина. А нас Господь уберег.
В общем, я ходил на службы, но какое-то время не причащался, потому что не получалось соблюдать евхаристический пост, вычитать все положенные молитвы ко Причащению. Однажды я все же причастился, уже у нас в храме, но и то в тот раз каноны полностью не вычитал.
«Святое Письмо на украинском языке я решил не прятать»
Однажды в моей квартире был обыск, это называется «зачистка» — русские пришли проверить, нет ли у меня в квартире военных. А у меня дома и Святое Письмо на украинском, и молитвенники, и я их не прятал. Решил, что если россияне будут обыскивать, то им будет все равно: они же, как мне казалось, понимают, что мы украинцы — и поэтому молиться по-украински для нас логично.
«ДНР-овцев» я опасался больше, потому что они понимали контекст — и знали, что в русскоязычном Мариуполе у случайных людей не будет Библии на украинском. Но, к счастью, оккупанты не обратили внимания на книги. Они просто все осмотрели, спросили:
— Ты православный?
— Да.
Потом они спросили, не украл ли я технику, что стояла у меня на полу. А я просто поставил на пол свой компьютер, телевизор, монитор — чтобы они во время взрывов не упали и не разбились.
Дальше они заставили меня открыть для обысков квартиры рядом (соседи, когда разъезжались, оставляли мне ключи). Потом из этих квартир что-то пропадало, и люди, которые возвращались в свои квартиры, спрашивали с меня:
— Почему ты им открыл?
— Потому что это были люди с автоматами.
«Россияне музыку слушают, празднуют, а рядом похоронен убитый»
Я успел посетить всего 2-3 службы в храме Петра Могилы ПЦУ, а после так называемого «Дня республики», который оккупанты стали отмечать 11 мая, к батюшке пришли и приказали «сворачиваться». Ему сказали: «Вы украинская церковь? Ну так нет здесь больше такой страны, Украины».
В 2014-м у нас даже в оккупации служили: в Донецке был храм, где нам разрешили служить, за забитыми окнами. А теперь вот служить не разрешили.
Тогда я понял, что оставаться в городе больше не могу. К тому же, у многих людей вокруг была радость и эйфория, потому что Россия им была ближе. А у меня была трагедия. Я решил злобу в себе не преумножать, выехать. Посоветовался со священником, и он тоже посоветовал не множить в себе раздражение и ненависть — я не мог смотреть на то, как оккупанты тут ходят и музыку включили, празднуют что-то, а рядом похоронен убитый.
В городе остались практически только пророссийские соседи — все проукраинские выехали 17 марта или чуть позже, когда открыли первый зеленый коридор. (Я тогда не выехал, потому что у меня нет машины, а за одно место просили 20 тысяч гривен; таких денег у меня не было). Соседи, конечно, не выдали меня оккупантам, но по-хорошему сказали: «Уезжай, Украины тут уже не будет». И я был вынужден это как-то принять. Тем более, что оставаться в той атмосфере я больше не мог.
Когда мы выезжали, было ощущение, что я оставляю позади Содом и Гоморру. Мы проезжали мимо своего дома, но я решил, что не буду даже оборачиваться, смотреть на него. Принял решение, как в Библии сказано, выйти из места, где нас не приняли, отрясти пыль с ног и идти дальше.
«Я думал, все увидят эти кары египетские и однозначно убедятся, что Бог есть»
Сегодня мы с мамой живем на Волыни, это западная часть Украины. Я хожу в один из местных храмов. Все никак не могу привыкнуть к приходу: дома у нас община была маленькая, все друг друга знали, а здесь в соборе на службах очень много людей, на праздники даже на улице, бывает, приходится стоять.
Не могу никак избавиться от грусти и ощущения безнадежности. Угасло желание ко всему, в храме по воскресеньям я еле стою. В Боге я не разочаровался, нет, Он и по сей день мне помогает, я это чувствую. Но теперь я больше переживаю, больше борюсь за выживание, боюсь потерять работу, боюсь остаться с мамой на улице — и из-за этой тревоги сложно сосредоточиться. Я помню, что не нужно заботиться о завтрашнем дне, но все же тревога за будущее не отпускает.
Мы теряем людей. Почти каждый день похороны, по нескольку человек, воинов отпевают постоянно. И сколько раз я видел парней, которые отдали свою жизнь за Родину! А им всего лет по 25-27, они не успели даже семью завести, только мамы их стоят на похоронах и плачут. И стоишь и думаешь: «А скольких мы еще потеряем?» И я снова ощущаю безнадежность.
В первые дни войны я был уверен, что Бог уничтожит тех, кто решил так кровожадно пойти на соседа. Думал, что Бог накажет их: да — россияне гордятся своим оружием, нефтью, богатствами, а мы маленькие совсем. Но Бог заступится за нас, думал я, и покарает россиян за то, что они решили, будто бы они вправе делить земли. А потом я отчаялся, когда осознал, что вот мы и попали на реки Вавилонские — в оккупацию.
Для меня в плане веры это был удар. Я все ждал, что у россиян реки наполнятся кровью, оттуда выйдут жабы, и тогда наши враги скажут: «Мы останавливаем войну, потому что нас постигла такая кара, мы все поняли». Я думал, все увидят эти кары египетские и однозначно убедятся, что Бог есть, — и война прекратится. Но так не случилось.
Но надежду мне дает все та же вера. Слава Богу, она не угасает. Я верю, что война все равно закончится. Я молюсь об этом. Меня поддерживает также ответственность: за себя, за маму. Нужно действовать, нужно адаптироваться на новом месте. И я думаю, Бог все равно не оставит нас — где бы ни были, куда бы ни пошли, где бы ни оказались.
Записала Ирина Олегова

Пономарь храма ПЦУ в Мариуполе — о жизни в осажденном, а затем оккупированном городе, который был почти полностью разрушен российскими войсками.
На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину Ярославу Г. было 27 лет. Он работал рерайтером новостной ленты на известном городском сайте Мариуполя. А ещё служил пономарём в храме во имя святого великомученика Пантелеймона Православной Церкви Украины (ПЦУ).
Мариуполь — один из наиболее пострадавших в ходе войны украинских городов. С первых дней полномасштабного вторжения он был взят в блокаду. Бои за город продолжались 82 дня и завершились 16 мая, когда Мариуполь уже полностью контролировался российскими войсками.
Из-за оккупации точное количество жертв в Мариуполе подсчитать пока нельзя. Городская мэрия говорила о 22 тысячах погибших горожан.
Ярослав Г. оставался в городе до 12 мая 2022 года. Какими были 2,5 месяца в осажденном и оккупированном городе, он рассказал проекту «Христиане против войны».
«Приход был для меня самым главным в жизни»
На момент начала полномасштабной войны я жил с мамой в Центральном районе Мариуполя, в западной его части, как ехать к ТРЦ «Порт Сити». Был прихожанином и пономарем храма святого великомученика и целителя Пантелеймона.
К вере пришел на втором курсе университета: сначала симпатизировал лютеранскому вероисповеданию, несколько раз ездил на богослужения в другие города, дважды посещал римо-католический приход, пока Бог не привел меня в Святую, Соборную и Апостольскую Православную Церковь.
В 2018 году наша община, до того принадлежавшая к Киевскому Патриархату, в полном составе присоединилась к Православной Церкви Украины.
Приход был для меня самым главным в жизни. Даже работа была для меня не так важна, как служение Церкви. Каждый свой выходной я старался посвятить храму: не только богослужению, но и быту — что-то убрать, что-то обустроить.
Каждое воскресенье у нас было на богослужении человек 50, по праздникам — 80. То есть наш приход считался многолюдным. А еще мы были единственным в Мариуполе храмом ПЦУ, который был построен именно как храм (а не переоборудован из какого-то другого старого здания).
«… и началось выживание»
Последнюю литургию перед войной я пропустил — не помню, то ли заболел, то ли работал (иногда мои рабочие смены выпадали на выходные дни). Пропустил, а теперь жалею.
Предчувствие войны какое-то было. Мы даже с нашим настоятелем незадолго до 24 февраля обсуждали, что будем делать в случае войны и оккупации, потому что, понятно, для ПЦУ риск был большой. А у меня нет родственников нигде в Украине, и я размышлял: а куда же я поеду в случае чего — без родственников, без денег…
Но, если честно, мы не думали, что город будет в блокаде. Мы предполагали, что боевые действия будут, максимум, на восточной окраине города, так что у нас будет время выехать. Тем более, незадолго до 24 февраля к нам в город с визитом приезжал Президент, а еще собственник градообразующих предприятий, и эти визиты вселяли какую-то надежду, спокойствие, оптимизм.
Вечером накануне войны я разговаривал с кузиной, и она считала, что начнется что-то плохое, а я был убежден, что ничего плохого не случится. Я не верил в возможность полномасштабной войны, не делал никаких запасов. Но когда тем вечером я лег спать, то долго не мог заснуть, была тревога, какое-то такое состояние внутреннего беспокойства. Хотя у нас, я считал, город был хорошо вооружен и защищен: у нас размещались и «Азов», и морская пехота, и другие сильные подразделения.
А утром мне позвонил папа, и я, прежде чем он что-то сказал, понял, что всё началось. Положил трубку и пошел на работу. Работал я в тот день вдохновенно, потому что наконец по-настоящему ощутил важность своей профессии. Я чувствовал, что реально нужен людям, был готов даже выезжать «в поле», чтобы отыскивать какую-то информацию.
В тот день меня ненадолго отпустили, чтобы я снял деньги с банкомата (но это было уже невозможно) — и мы перешли практически на круглосуточную работу. А примерно 1 марта не стало света. В предыдущие дни его отключали по нескольку часов в день, а теперь он исчез совсем. Связь тоже исчезла. Я потерял связь со своей работой, не знал, что делать дальше, и началось выживание.
«На молитву буквально не оставалось времени»
Люди начали самовольно открывать магазины и брать оттуда еду. А я не знал, что делать — мне хотелось посоветоваться с духовником, спросить у него, можно ли брать эту еду. Но поскольку связи не было, я просто сам решил, что ничего брать не буду.
Я вспомнил слова из Священного Писания о том, что Господь не оставит. Так и маме сказал: «Не волнуйся, еда у нас будет». И действительно, люди начали приносить нам еду, например, в благодарность за помощь: я мог принести кому-то воду, помочь заготовить дрова. (В начале марта 2022 года в осажденном Мариуполе исчезла не только мобильная связь, но и все остальные коммуникации: свет, вода, газ, отопление. Магазины закрылись, продукты быстро кончились. Многие люди были вынуждены фактически мародерствовать, чтобы пропитать себя и свои семьи. Весь период боев за город мариупольцы также были вынуждены готовить еду на улице, на кострах. — Прим. Ред.)
Однажды мы с мамой попробовали пойти в магазин, но атмосфера там была… не очень. К такому не были готовы, кажется, даже полицейские. Мы тогда увидели с мамой яблоки в луже — большие, польские — и забрали, а потом обменяли на что-то. Такой вот получился бартер. Тогда мы еще, помню, на улице нашли какой-то чай. Я считал, что брать из магазина продукты — нельзя, но можно подбирать, если их кто-то выбросил.
Также я очень переживал, что начался Великий пост, а придерживаться его было невозможно: еду выбирать не приходилось, я ел то, что было еще в запасе и чем угощали. К тому же, чтобы готовить на улице, требовались сила и энергия.
Духовнику я своему позвонить не мог и был этим в каком-то смысле парализован, потому что полностью все свое молитвенное правило я вычитывать также не мог — на молитву буквально не оставалось времени. Ты просыпаешься, разводишь костер, на котором надо приготовить чай или кофе, потом идешь добывать воду, потом идешь за дровами, пока туда-сюда, дня уже и нет. Утреннее правило я читать не успевал, читал вечернее: вслух, мы молились вместе с мамой. Иногда даже сидя или лежа, когда как получалось.
И самое страшное вот что: тут Великий пост, а меня распирают ненависть и злость, с которыми я не могу справиться. Я так готовился к посту, настраивался на этот молитвенный период, и тут началась война! Злость от всего происходящего просто не утихала. А посоветоваться было не с кем: хотя мой духовник и жил неподалеку, найти я его не смог (потом оказалось, что он ушел к родителям матушки).
Господь мне об этом чудом дал узнать, кстати — но уже гораздо позже. Однажды мы с мамой пошли набирать воду в район комплекса «Аляска», там был родник. И я услышал, как женщины, которые там стояли, обсуждают наш приход. Причем они озвучивают такие детали, которые могли знать только близкие нашему храму люди. Оказалось, среди этих женщин была мама нашей матушки. Мы наладили связь. Сам наш батюшка выехал с семьей, а я продолжал ходить к этим людям в гости, такое вот было утешение.
Такое чудо было не единственным. В начале мая я искал хоть кого-то из священников ПЦУ и пришел убраться в часовне во имя Архистратига Божиего Михаила, которая находится возле главного управления Нацполиции. Само управление было уже захвачено, а часовня стояла пустая, там повсюду лежало разбитое стекло, и я хотел его убрать. А после мы сидели еще с одним прихожанином на улице, неподалеку — и видим, едет батюшка на велосипеде. Он остановился, потому что увидел, что возле храма сидят люди. Оказалось, он пытается возобновить богослужения в храме во имя святого Петра Могилы — это нижний храм собора, который строился в Приморском районе города. Но это я немного забегаю наперёд в своём рассказе.
«Слова псалмопевца о врагах, окруживших город, прозвучали по-новому»
До войны я старался начинать утро с просфоры и святой воды. Потом читал утреннее правило и приступал к работе. После работы читал Писание или духовную литературу. Молился вечерним правилом, смотрел какой-то сериал, перед сном прочитывал еще несколько молитв. Этот весь график и ритм у меня расстроились, и по сей день я не могу в них вернуться, если честно. В войну ты не можешь себе позволить несколько часов молиться, и тебе не до распорядка.
Зато я заново открыл для себя Псалтирь. Слова этой книги заново откликнулись в моем сердце, иначе. Та лексика, те словосочетания, тот искренний диалог с Богом, который вел псалмопевец, прозвучали в тех обстоятельствах совсем по-новому. Например, слова о врагах, которые окружили город и ходят вокруг, жаждая крови. В Мариуполе в те дни повторялись события древних времен царя Давида.
Псалтирь я читал как средство в борьбе со злобой, кстати, даже выписывал отдельные цитаты в специальный блокнот (правда, по-церковнославянски, чтобы, если вдруг меня где задержат, ко мне не было претензий).
Но дисциплину в молитве я потерял полностью. А в вере что главное? Дисциплина, как и в спорте. И как только ты немного сошел с дистанции, так сразу же потерял какую-то внутреннюю собранность. По сей день я не могу полностью сосредоточиться на богослужении.
«Я не стал объяснять соседям, что эти дети теперь в лучшем мире. Подумал, что лучше промолчу»
Так я понял, что очень легко быть христианином, когда у тебя спокойная размеренная жизнь, ты знаешь, что будет завтра, спокойно ходишь в храм, спокойно читаешь молитвы. А когда появляются вызовы, когда переворачивается вся жизнь, христианином быть тяжелее.
Когда в соседнем доме лежит беременная женщина, которая погибла под бетонными плитами, а ее муж-врач, который добровольно поехал спасать людей, тоже погиб, — я не знал, что отвечать своим соседям. Не знал, как свидетельствовать о вере тем людям, которые видели, как умерла эта женщина и как долго её не могли вытащить из-под плит, потому что очень тяжелый бетон; даже оккупанты потом сказали, что здесь нужен подъемный кран.
Сейчас стала популярна песня американской певицы Сюзанны Веги о том, что «Бог выехал из Мариуполя на последнем поезде». Я не знаю, как объяснить людям эту песню, потому что считаю, что Бог оставался в Мариуполе все время, и по сей день Он там, Он вообще везде. Но говорить это людям я не берусь.
Как-то мы с мамой шли по городу и увидели дом в частном секторе, полностью разбитый, и рядом на камне были написаны имена, с датами рождения и смерти. По датами было понятно, что это дети. И я не стал объяснять соседям, что эти дети теперь в лучшем мире. Я подумал, что лучше просто промолчу.
Люди знали, что я пономарь, что я посещаю храм, но я не мог найти для них утешения — потому что люди теряют веру, когда видят, как гибнут их близкие, и пояснить причину этой смерти я им тоже не мог. А некоторые мои соседи наоборот в те дни открыли для себя Бога. Одна соседка у меня попросила молитву, я ей переписал от руки. Потом другой сосед попросил. А 9 мая, когда он пришел в гости, я читал молитву за упокой всех воинов, погибших во Вторую Мировую войну, за всех наших предков.
Я думал, что большинство горожан у нас неверующие, но оказалось, что это не так. Погибших не могли хоронить на кладбище и потому хоронили во дворах, на стадионах, в парках. И вот, на стадионе неподалеку от нас людей хоронили по направлению на восток, на этих могилах устанавливали православные кресты. Да, иногда делали перекладину не в ту сторону, но все понимали, что хоронить людей нужно по христианскому обряду.
«Мы потеряли всё. И не только мы»
В апреле, когда большинство районов было уже захвачено и стало возможным передвигаться по городу (не рискуя погибнуть в городских боях — Прим. Ред.), мне вдруг приснилось, что наш храм сгорел и что я иду на улицу Успенскую и вижу, что от храма ничего не осталось. И когда я пришел туда уже не во сне, а наяву, то так и оказалось. Да, наш храм был совсем новым, он не был памятником архитектуры, но у нас, например, была икона святого чудотворца Николая XIX века, икона святого Георгия Победоносца того же периода примерно… Сгорело всё.
Невероятно жаль. Этот храм дался такими усилиями! Батюшка даже голодовку устраивал перед горсоветом, чтобы ему выдали землю. Землю нам не выдавали под постройку вплоть до 2014 года, а потом наконец выделили — и теперь мы потеряли все. И не только мы. Храм наш расположен как раз по дороге к заводу «Азовсталь», на холме, и этот район был полностью уничтожен, вся частная застройка.
У нас была очень дружная многонациональная община: к нам ходили и армяне, и россияне, и ромы. Самой большой утратой для меня стала гибель пани Раисы, мамы нашего настоятеля, которая помогала по храму. Она была очень доброй и открытой женщиной, приятной собеседницей, кстати, русской по национальности. Пани Раиса погибла от осколков в своем дворе. Другая наша прихожанка, военный медик-стоматолог, попала в плен. Я очень за нее волновался, но слава Богу, ее уже освободили.
Хотел я пойти проверить и еще один наш храм — святой равноапостольной княгини Ольги, возле меткомбината имени Ильича. Но меня отговорили: сказали, что в том районе работают снайперы, там уже лежали мертвые люди, и я не пошел тогда, остался. Потом там побывал один наш священник, отец Александр. Он сказал, что в тот храм было прямое попадание.
«Оккупанты пришли в храм в касках и с автоматами»
Для меня было очень тяжело то, что я долгое время не мог пообщаться ни с кем из наших. А пообщаться с кем-то своим очень хотелось.
Впервые за все время осады города я смог попасть на службу примерно на Благовещение, в храм УПЦ, где возобновились богослужения (на тот момент район уже был захвачен российскими войсками, и бои в нем прекратились. — Прим. Ред.). Это был Свято-Никольский собор. Однажды я просто услышал, как там звонят колокола: во-первых, собор находится от меня не очень далеко, а во-вторых, город замер, заводы прекратили работу, и колокола стали слышны. Так я понял, что храм снова открыт.
Я туда пришел, повстречал какого-то мужчину, который помогал по храму, спросил, будет ли богослужение. Он сказал, что да, и уже на следующее утро я пошел на службу. Душа очень просила, и в то же время я понимал, что наших, скорее всего, в городе уже не осталось, и поэтому пошел в храм УПЦ.
Уже позже я узнал, что совсем неподалеку от меня, на 23-м микрорайоне, жил отец Александр со своей матушкой, который не выехал — остался, когда увидел, как хоронят людей на футбольном поле. Он мог эвакуироваться из города, потому что у него была машина. Но не стал, потому что увидел, как стихийно во дворах хоронят христиан, и решил, что останется, чтобы их отпевать. Они в доме, где остановились, отслужили пасхальную службу, прямо в подвале. И я очень жалел, что не знал об этом заранее и не смог попасть к ним.
Пасху в Свято-Никольськом соборе встречали утром: ночью был комендантский час, и служить не разрешили. Служба тогда началась примерно в 7 утра. Я встретил в храме людей с нашего района: город опустел, и если раньше я никогда не встречал одного и того же человека в городе дважды, то теперь видел одних и тех же людей то там, то здесь, стал узнавать их.
Папа подарил мне одну пасочку, вторую мы с мамой купили, маленькую-маленькую, потому что пасочки стоили бешеных денег.
В этот храм ходили оккупанты, и я удивился, что никто не сделал им замечания: они же там стояли в касках, то есть с покрытой головой, да еще и с оружием. Приходили и российские «военкоры», какая-то бабушка учила их, как осенять себя крестным знамением.
Так я посетил несколько служб в этом храме, а потом подумал, что все-таки нужно сходить в Приморский район, посмотреть, что там с нашим храмом во имя Петра Могилы. А к тому моменту уже потеплело, быт обеспечивать стало легче, и я стал отпрашиваться у мамы ходить на службы туда.
У мамы приходилось отпрашиваться, потому что с 10 марта она боялась оставаться одна. У нас в тот день выбило стекла на балконе, и я пошел заколачивать окна, а в этот момент что-то взорвалось, и нас обоих с мамой отбросило взрывной волной — и чудо Божие, что мы выжили, потому что летели такие осколки! А нас ранило совсем чуть-чуть. Тогда в нашем доме выбило все окна и еще в двух 12-этажках напротив. В соседнем подъезде погиб мужчина. А нас Господь уберег.
В общем, я ходил на службы, но какое-то время не причащался, потому что не получалось соблюдать евхаристический пост, вычитать все положенные молитвы ко Причащению. Однажды я все же причастился, уже у нас в храме, но и то в тот раз каноны полностью не вычитал.
«Святое Письмо на украинском языке я решил не прятать»
Однажды в моей квартире был обыск, это называется «зачистка» — русские пришли проверить, нет ли у меня в квартире военных. А у меня дома и Святое Письмо на украинском, и молитвенники, и я их не прятал. Решил, что если россияне будут обыскивать, то им будет все равно: они же, как мне казалось, понимают, что мы украинцы — и поэтому молиться по-украински для нас логично.
«ДНР-овцев» я опасался больше, потому что они понимали контекст — и знали, что в русскоязычном Мариуполе у случайных людей не будет Библии на украинском. Но, к счастью, оккупанты не обратили внимания на книги. Они просто все осмотрели, спросили:
— Ты православный?
— Да.
Потом они спросили, не украл ли я технику, что стояла у меня на полу. А я просто поставил на пол свой компьютер, телевизор, монитор — чтобы они во время взрывов не упали и не разбились.
Дальше они заставили меня открыть для обысков квартиры рядом (соседи, когда разъезжались, оставляли мне ключи). Потом из этих квартир что-то пропадало, и люди, которые возвращались в свои квартиры, спрашивали с меня:
— Почему ты им открыл?
— Потому что это были люди с автоматами.
«Россияне музыку слушают, празднуют, а рядом похоронен убитый»
Я успел посетить всего 2-3 службы в храме Петра Могилы ПЦУ, а после так называемого «Дня республики», который оккупанты стали отмечать 11 мая, к батюшке пришли и приказали «сворачиваться». Ему сказали: «Вы украинская церковь? Ну так нет здесь больше такой страны, Украины».
В 2014-м у нас даже в оккупации служили: в Донецке был храм, где нам разрешили служить, за забитыми окнами. А теперь вот служить не разрешили.
Тогда я понял, что оставаться в городе больше не могу. К тому же, у многих людей вокруг была радость и эйфория, потому что Россия им была ближе. А у меня была трагедия. Я решил злобу в себе не преумножать, выехать. Посоветовался со священником, и он тоже посоветовал не множить в себе раздражение и ненависть — я не мог смотреть на то, как оккупанты тут ходят и музыку включили, празднуют что-то, а рядом похоронен убитый.
В городе остались практически только пророссийские соседи — все проукраинские выехали 17 марта или чуть позже, когда открыли первый зеленый коридор. (Я тогда не выехал, потому что у меня нет машины, а за одно место просили 20 тысяч гривен; таких денег у меня не было). Соседи, конечно, не выдали меня оккупантам, но по-хорошему сказали: «Уезжай, Украины тут уже не будет». И я был вынужден это как-то принять. Тем более, что оставаться в той атмосфере я больше не мог.
Когда мы выезжали, было ощущение, что я оставляю позади Содом и Гоморру. Мы проезжали мимо своего дома, но я решил, что не буду даже оборачиваться, смотреть на него. Принял решение, как в Библии сказано, выйти из места, где нас не приняли, отрясти пыль с ног и идти дальше.
«Я думал, все увидят эти кары египетские и однозначно убедятся, что Бог есть»
Сегодня мы с мамой живем на Волыни, это западная часть Украины. Я хожу в один из местных храмов. Все никак не могу привыкнуть к приходу: дома у нас община была маленькая, все друг друга знали, а здесь в соборе на службах очень много людей, на праздники даже на улице, бывает, приходится стоять.
Не могу никак избавиться от грусти и ощущения безнадежности. Угасло желание ко всему, в храме по воскресеньям я еле стою. В Боге я не разочаровался, нет, Он и по сей день мне помогает, я это чувствую. Но теперь я больше переживаю, больше борюсь за выживание, боюсь потерять работу, боюсь остаться с мамой на улице — и из-за этой тревоги сложно сосредоточиться. Я помню, что не нужно заботиться о завтрашнем дне, но все же тревога за будущее не отпускает.
Мы теряем людей. Почти каждый день похороны, по нескольку человек, воинов отпевают постоянно. И сколько раз я видел парней, которые отдали свою жизнь за Родину! А им всего лет по 25-27, они не успели даже семью завести, только мамы их стоят на похоронах и плачут. И стоишь и думаешь: «А скольких мы еще потеряем?» И я снова ощущаю безнадежность.
В первые дни войны я был уверен, что Бог уничтожит тех, кто решил так кровожадно пойти на соседа. Думал, что Бог накажет их: да — россияне гордятся своим оружием, нефтью, богатствами, а мы маленькие совсем. Но Бог заступится за нас, думал я, и покарает россиян за то, что они решили, будто бы они вправе делить земли. А потом я отчаялся, когда осознал, что вот мы и попали на реки Вавилонские — в оккупацию.
Для меня в плане веры это был удар. Я все ждал, что у россиян реки наполнятся кровью, оттуда выйдут жабы, и тогда наши враги скажут: «Мы останавливаем войну, потому что нас постигла такая кара, мы все поняли». Я думал, все увидят эти кары египетские и однозначно убедятся, что Бог есть, — и война прекратится. Но так не случилось.
Но надежду мне дает все та же вера. Слава Богу, она не угасает. Я верю, что война все равно закончится. Я молюсь об этом. Меня поддерживает также ответственность: за себя, за маму. Нужно действовать, нужно адаптироваться на новом месте. И я думаю, Бог все равно не оставит нас — где бы ни были, куда бы ни пошли, где бы ни оказались.
Записала Ирина Олегова